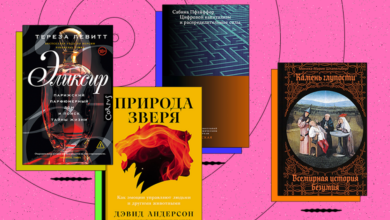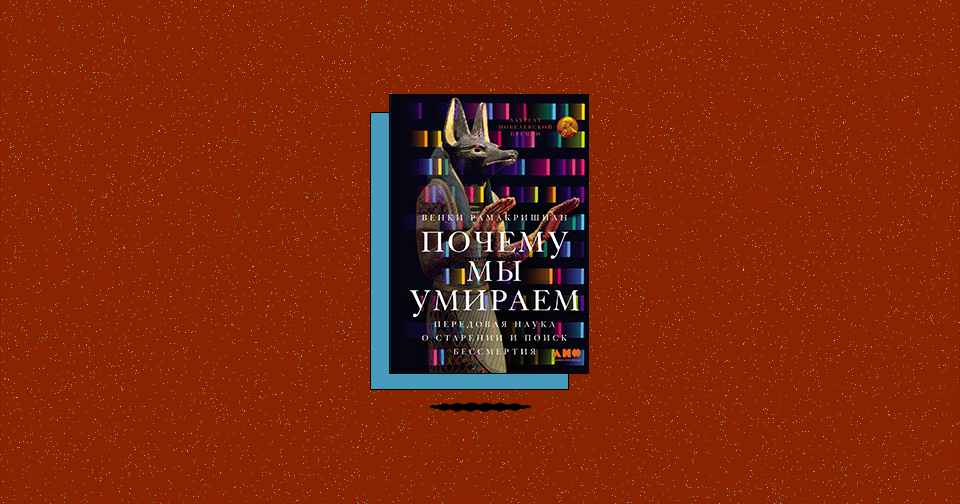
В большинстве стран мира растет доля пожилых — согласно прогнозу ВОЗ, к 2080 году людей в возрасте 65 лет станет больше, чем детей до 18 лет. За последнее время мы многое узнали о глубинных механизмах старения. Но смогут ли люди когда-нибудь жить в несколько раз дольше, чем сейчас? В книге «Почему мы умираем: Передовая наука о старении и поиск бессмертия» («Альпина нон-фикшн»), переведенной на русский язык Николаем Мезиным, биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2009 год Венки Рамакришнан рассказывает о наиболее перспективных подходах к изучению старения. Предлагаем вам ознакомиться с фрагментом о почвенной нематоде Caenorhabditis elegans, которая помогла выяснить, что гены связаны с продолжительностью жизни.
Уроки скромного червяка
Каждый из нас знает семьи, в которых есть долгожители. Но насколько долголетие зависит от генов? В
A. M. Herskind et al., «The Heritability of Human Longevity: A Population-Based Study of 2,872 Danish Twin Pairs Born 1870–1900,» Human Genetics 97, no. 3 (March 1996): 319–23, https://doi.org/10.1007/BF02185763.
, в котором приняли участие 2700 датских близнецов, было показано, что наследуемость продолжительности жизни человека (количественный показатель, отражающий, насколько различия в генах определяют разницу в продолжительности жизни) составляет всего около 25 процентов. Более того, считалось, что эти генетические факторы обусловлены суммой незначительных эффектов, заданных множеством разных генов, и, таким образом, их трудно отследить на уровне отдельного гена. К моменту проведения датского исследования (1996) один скромный червячок уже помог опровергнуть эту гипотезу.
Этим червячком была почвенная нематода Caenorhabditis elegans, которая стала любимым объектом исследования у современных биологов с легкой руки Сиднея Бреннера, выдающегося ученого и человека, славящегося своим язвительным остроумием. Сидней родился и получил начальное образование в Южной Африке, но бо́льшую часть созидательной жизни провел в английском Кембридже, а затем основал лаборатории по всему миру, от Калифорнии до Сингапура, дав некоторым коллегам повод шутить, что над империей Бреннера никогда не заходит солнце. Впервые известность ему принесло открытие мРНК. В основном же Бреннер в тесном сотрудничестве с Фрэнсисом Криком
Их взгляды и планы кратко представлены в статье Фрэнсиса Крика и Сиднея Бреннера 1971 года: F. H. C. Crick and S. Brenner, Report to the Medical Research Council: On the Work of the Division of Molecular Genetics, Now the Division of Cell Biology, from 1961–1971 (Cambridge, UK: MRC Laboratory of Molecular Biology, November 1971), https://profiles.nlm.nih.gov/spotlight/ sc/catalog/nlm: nlmuid-101584582X71-doc.
изучением природы генетического кода и механизма его считывания при синтезе белков. Как только коллеги решили, что разобрались с этой фундаментальной проблемой, Бреннер заинтересовался процессами развития сложного организма из единственной клетки, а также работой мозга и нервной системы.
Бреннер обнаружил, что червь C. elegans — идеальный организм для изучения, потому что его легко выращивать, у него относительно короткий жизненный цикл и он прозрачен, так что можно увидеть все клетки, из которых состоит организм этого червя. В лаборатории молекулярной биологии Центра медицинских исследований в Кембридже Бреннер подготовил немало специалистов и создал всемирное сообщество ученых, изучающих на примере C. elegans все что угодно — от развития организма до поведения. Среди его коллег был и Джон Салстон, о котором я уже рассказывал в главе 5. Одним из наиболее значительных проектов Салстона стало тщательное отслеживание развития каждой из приблизительно 900 клеток взрослой нематоды начиная с единственной исходной клетки, что привело к неожиданному открытию: оказалось, что некоторые клетки запрограммированы умереть на определенном этапе своего развития. Ученые продолжили эти исследования, намереваясь
За эту работу Бреннер в 2002 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине вместе с двумя бывшими коллегами, Джоном Салстоном и Робертом Горвицем. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2002,» Nobel Prize online, визит 22 июля 2023 года, https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2002/summary/.
гены, которые отдают приказ таким клеткам совершить самоубийство в нужный момент, чтобы организм смог продолжить правильно развиваться.
Для животного, состоящего всего из 900 клеток, эти черви — поразительно сложные существа. У них имеются некоторые органы, присущие более крупным животным, только проще устроенные: рот, кишечник, мускулы и мозг с нервной системой. Они не обладают ни кровеносной, ни дыхательной системой. И хотя они едва заметны—всего около миллиметра в длину,— в микроскоп легко увидеть, как они извиваются. Эти нематоды — гермафродиты и производят как сперматозоиды, так и яйцеклетки, но при определенных условиях способны и к бесполому размножению. В норме они социальны, но ученые обнаружили мутации, которые могут сделать их асоциальными. Пищей им служат бактерии, и точно так же, как бактерий, ученые культивируют нематод в чашках Петри. Культуру этих червей можно на любой срок заморозить жидким азотом в пробирке и, когда понадобится, оживить, просто дав им оттаять.
Обычно C. elegans живет пару недель. Однако, если приходится голодать, нематода способна впадать в некое подобие спячки — в этом состоянии под названием «дауэр»
От нем. Dauer — «длительный». — Прим. ред.
она может прожить до двух месяцев и просыпается, когда еды снова будет вдоволь. В масштабе человеческого века это равнялось бы 300 годам. Каким-то способом эти червячки научились останавливать обычный процесс старения. Есть, правда, одна оговорка: в такую спячку могут впадать только молодые особи. Достигнув половой зрелости и став взрослыми, они этой возможности лишаются.
Дэвид Хирш заинтересовался нематодой C. elegans, когда работал в команде Бреннера в Кембридже, и продолжил ее изучение уже в Университете Колорадо. Там к нему присоединился постдокторант Майкл Класс, который хотел заниматься проблемой старения. В те времена старение считалось естественным и неизбежным процессом изнашивания организма и традиционные биологи смотрели на исследования в этой области немного свысока. Однако ситуация начала понемногу меняться, отчасти потому, что правительство США обеспокоилось старением населения. Как
Дэвид Хирш, электронное письмо автору от 1 августа 2022.
Хирш, Национальные институты здравоохранения (NIH) незадолго до этого учредили Национальный институт США по проблемам старения (NIA), и по меньшей мере одним из стимулов работать в этой области для них с Классом была высокая вероятность получить финансирование из федерального бюджета.
Сначала Хирш и Класс обнаружили, что по многим показателям нематоды в состоянии дауэра стареют незначительно, если вообще стареют. Затем Класс решил проверить, можно ли выявить нематод-мутантов, которые живут дольше, но при этом не обязательно впадают в спячку. Это помогло бы ему определить, какие гены влияют на продолжительность жизни. Чтобы ускорить появление мутантов, среди которых он сможет найти долгожителей, Класс обработал червей мутагенными химикатами. Так в его распоряжении оказались тысячи чашек Петри с нематодами, которых он продолжил изучать уже после открытия собственной лаборатории в Техасе. В 1983 году Класс опубликовал статью о нескольких долгоживущих нематодах-мутантах, но вскоре закрыл лабораторию и перешел в чикагскую компанию Abbott Laboratories. Однако перед отъездом он послал партию замороженных мутантов бывшему коллеге по Колорадскому университету Тому Джонсону, который к тому моменту работал в Калифорнийском университете в Ирвине.
Получив с помощью инбридинга линии червей-мутантов, Джонсон установил, что средняя продолжительность жизни у них варьирует между 10 и 31 днем, из чего сделал вывод, что по крайней мере у нематод время жизни в значительной мере задается генетически. Оставалось неясным, какое число генов влияет на продолжительность жизни, но в 1988 году Джонсон, работая вместе с увлеченным этой темой студентом Дэвидом Фридманом, пришел к поразительному заключению, которое полностью расходилось с установившимся представлением о том, что на продолжительность жизни влияют множество генов, каждый из которых вносит свой небольшой вклад. Вместо этого
D. B. Friedman and T. E. Johnson, «A Mutation in the age‑1 Gene in Caenorhabditis elegans Lengthens Life and Reduces Hermaphrodite Fertility,» Genetics 118, no. 1 (January 1, 1988): 75–86, https://doi.org/10.1093/genetics/118.1.75.
, что мутация всего в одном гене, который Джонсон и Фридман назвали age-1, продлевает жизнь червей. Затем Джонсон
T. E.Johnson, «Increased Life-Span of age‑1 Mutants in Caenorhabditis elegans and Lower Gompertz Rate of Aging,» Science 249, no. 4971 (August 24, 1990): 908–12, https://doi.org/10.1126/science.2392681.
, что у червей с мутацией гена age-1 смертность в любом возрасте ниже, а максимальная продолжительность жизни более чем вдвое превышает продолжительность жизни обычных червей. Максимальная продолжительность жизни, которая определяется как продолжительность жизни 10 процентов самых долгоживущих особей в популяции, считается более точным показателем старения, поскольку на среднюю продолжительность могут влиять самые разные посторонние факторы, не всегда связанные со старением, например вредные воздействия окружающей среды или устойчивость к болезням.
В тот момент Том Джонсон не был знаменитым ученым, а его гипотеза о том, что единственный ген может до такой степени влиять на старение, противоречила общепринятой точке зрения. И потому его статья ждала публикации почти два года. Даже когда она наконец вышла в престижном журнале Science (1990), научное сообщество отнеслось к работе Джонсона с некоторым недоверием.
Однако спустя несколько лет появились сообщения о втором черве-мутанте. Этим исследованием руководила Синтия Кеньон, уже считавшаяся восходящей звездой в области изучения C. elegans. Карьера Синтии складывалась блестяще: диссертация в Массачусетском технологическом институте; исследовательская работа у Сиднея Бреннера в лаборатории молекулярной биологии Центра медицинских исследований в Кембридже, где и началось изучение генома нематоды; работа в Калифорнийском университете Сан-Франциско — еще одном мировом центре молекулярной биологии и медицины. Кеньон заслужила репутацию ведущего специалиста по развитию нематоды и формированию ее организма в процессе роста. Проблема старения тоже ее интересовала, но, поскольку сама тема тогда считалась не слишком перспективной, Синтии не удавалось привлечь студентов к этой работе. Однако доклад о гене age-1, представленный Джонсоном на конференции в Лейк-Эрроухед (пригороде ЛосАнджелеса),
Историю открытия Кеньон и Джонсона в их личном изложении см. в: C. Kenyon, «The First Long-Lived Mutants: Discovery of the Insulin/IGF-1 Pathway for Ageing,» Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 366, no. 1561 (January 12, 2001): 9–16, https://doi.org/10.1098/ rstb.2010.0276, и T.E.Johnson, «25 Years After age‑1: Genes, Interventions and the Revolution in Aging Research,» Experimental Gerontology 48, no. 7 (July 2013): 640–43, https://doi.org/10.1016/j.exger.2013.02.023.
исследовательницу, и она приступила к генетическому скринингу на новые мутации.
Вслед за Хиршем, Классом и Джонсоном Кеньон сосредоточилась на изучении механизма дауэра. За предшествующее десятилетие ученые установили много генов, влияющих на это состояние, обычно обозначая их как daf. Название гена традиционно пишут курсивом: те же буквы, но написанные прямым шрифтом, означают белок, кодируемый этим геном. В обычных условиях мутации в этих генах предрасполагают нематоду к переходу в состояние дауэра. Но Кеньон предположила, что те же гены влияют на максимальную продолжительность жизни даже без дауэра. Она пошла на хитрость, использовав червей-мутантов, чувствительных к температуре: при относительной прохладе (20 °C) они не могли впадать в спячку. В этих условиях нематоды развивались до той стадии, когда дауэр уже невозможен. И тогда температуру повышали до 25 °C, давая червям достигнуть половой зрелости, чтобы потом определить продолжительность их жизни. Эти эксперименты позволили группе Кеньон обнаружить мутацию в гене daf‑2, которая позволяла червям прожить вдвое дольше среднего. Не встретив и малой доли того скептицизма, с которым столкнулся Джонсон, Кеньон беспрепятственно опубликовала результаты своей работы: в 1993 году ее
C. Kenyon et al., «A C. elegans Mutant That Lives Twice as Long as Wild Type,» Nature 366, no. 6454 (December 2, 1993): 461–64, https://doi.org/10.1038/ 366461a0.
в Nature была принята с огромным энтузиазмом. Помимо блестящей научной карьеры и выдающихся способностей, Кеньон отличалась также трезвым умом и обаянием, так что СМИ к ней благоволили. К сожалению, ни в самой статье Кеньон, ни в сопровождавших ее комментариях не было сказано ни слова о более ранней работе Джонсона, посвященной age-1, поэтому большинство сообщений о результатах работ Кеньон оставляет впечатление, что она первая обнаружила мутацию, увеличивающую продолжительность жизни нематоды.
На том этапе исследований никто не имел реального представления о том, как работают гены, обнаруженные Джонсоном и Кеньон. И тут появляется Гэри Равкан. Сегодня этот ученый известен прежде всего тем, что впервые описал, как небольшие молекулы РНК (микроРНК) регулируют экспрессию генов, однако и личная, и научная жизнь у него была весьма яркая и разнообразная. Я познакомился с ним около десяти лет назад на острове Крит, на конференции; после нескольких рюмок он становился необыкновенно общительным. Живо помню его в бандане и с сигаретой, которую он на самом деле не курил, постоянно подливающим себе крепкий греческий напиток, — со своими пышными, но ухоженными усами он был очень похож на матроса в греческой таверне, только что сошедшего с корабля. И все это время Гэри без устали и совершенно не к месту рассуждал о биологии РНК. В середине 1990-х годов он тоже работал с нематодами-мутантами, в том числе с мутацией гена daf‑2, влияющей на стадию дауэра, но тема его работы не была связана со старением. Судя по его же словам, Равкан не придавал особой важности этому направлению научного поиска, и, прочитав только что вышедшую статью Кеньон, он подумал: «Боже мой, оказывается, я теперь тоже занимаюсь проблемами старения! А ведь у этих геронтологов IQ с каждым годом снижается вдвое».
Большой прорыв случился, когда Равкан выделил и секвенировал ген daf‑2. Этот ген кодирует рецептор, который находится на поверхности клетки и реагирует на молекулу, очень похожую на инсулин: ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста 1). ИФР-1 и инсулин — гормоны, связывающиеся со своими рецепторами в клетке. Оба рецептора также относятся к киназам, которые активируют следующие молекулы каскада, что, в свою очередь, влияет на метаболические пути, имеющие отношение к долголетию. Эти гормоны или их аналоги присутствуют почти во всех живых организмах, значит, они возникли еще на заре эволюции. И то, что эти древние гормоны управляют старением, стало поразительным открытием.
Подробнее читайте:
Рамакришнан В. Почему мы умираем: Передовая наука о старении и поиск бессмертия / Венки Рамакришнан ; Пер. с англ. — М. : Альпина нон-фикшн, 2025. — 360 с. ; ил.