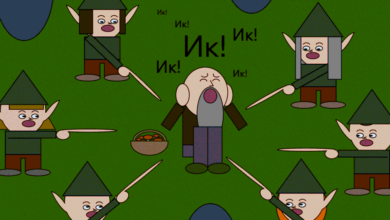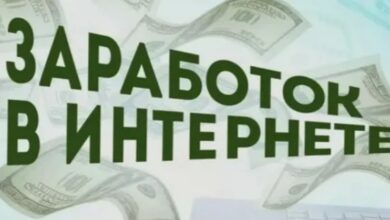Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша…
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало —
Вот что душу образует.
Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.
Против выводов науки
Невозможно устоять.
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать.
Николай Олейников, «Таракан»
Таракан в этом стихотворении Николая Олейникова — мученик. Вне русской лирической традиции насекомое снискало противоречивую репутацию: и сомнительный имидж бытового вредителя, и, напротив, положительную роль незаменимого участника экосистем и экспериментального животного. Поэтому и правовой аспект жизни таракана не так однозначен: его статус меняется в зависимости от роли насекомого, места и времени действия. От средневековых судебных процессов до современной биоэтики человеческие представления о праве таракана на жизнь без страданий и его ответственности за вред, причиняемый человеку, значительно менялись. Как правовые нормы отражают консенсус о сознании таракана?
Содержание
Шипящие, свистящие, право имеющие
Таракановые как отряд существуют более 200 миллионов лет, так долго, что эти невзрачные насекомые застали распад суперконтинента Пангеи. Современный человек, Homo sapiens, возник не в пример позже — около 300 тысяч лет назад. Поэтому тараканы сопровождают человечество в течение всей его истории. В большинстве случаев эти насекомые воспринимаются людьми в качестве фактора риска: образ таракана-вредителя, разносчика опасных заболеваний — менингита, полиомиелита, шигеллеза и других — надежно закрепился в западных обществах. Перефразируя Осипа Мандельштама, таракан — самой природы вечный террорист, его появление в жилых помещениях вселяет в обитателей ужас и отвращение.
Но отношение людей к тараканам не исключительно враждебно. В ряде азиатских стран их используют в пищу, поэтому тараканы представляют собой полезный и ценный ресурс, который может выступать предметом купли-продажи. На них проводят научные опыты. Вольно живущие тараканы занимают важную экологическую нишу: поедают растительные и животные остатки, обогащают почву азотом, а после — сами становятся пищей для грызунов, рептилий и птиц. В некоторых случаях тараканы могут выступать и в роли экзотичных домашних питомцев. Так, в 2022 популярность разведения мадагаскарских тараканов у москвичей привела к тому, что часть особей сбежала из террариумов и
Бррр.
.
Так что же такое таракан? Домашнее животное? Движимое имущество? Или же он является анти-благом, достойным лишь систематического уничтожения? Возможно, таракан обладает сознанием в достаточной степени, чтобы защищать его от страданий так же, как людей, других млекопитающих и птиц? Ответы на эти вопросы неоднозначны, даже если вам неуютно от мысли о крупной колонии огромных шипящих мадагаскарских тараканов. От ответов зависит и то, как предстоит измениться научной практике использования тараканов и других насекомых в исследовательских целях.
Последнее десятилетие границы дозволенного с экспериментальными животными сужались. В 2010 году члены Европарламента и Совета Европейского Союза признали, что осьминоги и другие головоногие моллюски способны страдать, испытывать стресс и долгое время переживать травму. Поэтому для проведения экспериментов на осьминогах теперь требуется разрешение этического комитета. Не так давно стало понятно, что страдать, осознавать и терпеть боль способны и членистоногие — шмели. В 2024 году Королевское энтомологическое общество выпустило заявление, в котором утверждается, что насекомые с некоторой вероятностью способны переживать чувственные феномены, вроде боли и наслаждения, поэтому обновленные стандарты экспериментальных исследований должны учитывать их благополучие.
К 2025 году тенденция к отказу от испытаний на животных набрала еще большую силу. Национальные институты здоровья (NIH) США объявили, что больше не будут финансировать исследования, проводимые исключительно на животных моделях. Чтобы получить одобрение NIH, необходимо использовать новые методы оценки безопасности (New Approach Methodologies, NAM): органы на чипе, искусственный интеллект и другие подходы. Отчасти дело в том, что эксперименты на животных плохо транслируются на человека, например, до 90 процентов лекарств, исследованных на животных, проваливаются в клинических испытаниях. Отчасти — дело в формировании новой этики и пересмотре прав животных.
Поспевает ли на эту этическую амнистию таракан — животное, ставшее метафорой бесправия? Юридический и этический статус таракана шустр и юрок, словно бы убегает на шести насекомьих ногах. Можно ли разглядеть в его переменах тенденцию к улучшению?
Утрата субъектности
В Средние Века животных, включая насекомых, воспринимали в целом как равных человеку и наделяли их не только правом на жизнь, но и правом выступать в суде в свою защиту и правом на бесплатную юридическую помощь: согласно описанным в исторической литературе примерам, обвиняемых животных иногда обеспечивали адвокатами-людьми. В средневековых судах насекомые и иные животные выступали полноценными участниками судебных процессов, правда, исключительно в роли ответчика, так как таракан, как известно, не ропщет.
При этом, по представлениям обывателей тех времен, насекомых и грызунов могло остановить только вмешательство суда, в первую очередь — церковного. Например, в Лозанне 1479 году в течение двух лет шел судебный процесс над майскими жуками, по итогам которого насекомых обязали незамедлительно оставить свое городское жилище. В рамках аналогичного церковного суда над гусеницами, виновных в порче зеленых насаждений, личинок насекомых оповещали о начале процесса колокольным звоном. Гусеницы на заседание не явились, а усилия предоставленного им адвоката были напрасны: по вынесенному приговору насекомые были объявлены прибежищем дьявола и торжественно прокляты, после чего нарушителям правопорядка было предписано покинуть местность.
Бывали и более компромиссные решения. В 1546 году несколько виноградарей из округа Сен-Жюльен, расположенного в юго-восточной части Франции, подали жалобу на вред, причиненный жуками-долгоносиками, Rynchites auratus. Согласно сохранившимся записям, ответчики-насекомые покинули местность еще до вынесения приговора, и рассмотрение дела приостановили. Однако 41 год спустя жуки вернулись, и процесс начался заново. Дело продвигалось медленно, пока, наконец, в качестве компромисса власти не выделили долгоносикам участок земли за пределами деревни в единоличное бессрочное пользование. Впрочем, судя по всему, участок жукам так и не достался — в его отношении заявил права собственности один из жителей местности.
А что-то хорошее с насекомыми происходило? ↓
В западной европе существовала традиция рассказывать пчелам о важных событиях: смертях, рождениях, браках. Пчеловоды должны обойти пасеку, постучаться в каждый улей и сообщить новости. Считалось, что если не посвятить пчел в важные семейные дела, они покинут свой улей, саботируют производство меда или вовсе умрут. В 2022 году придворным пчелам Британской короны, например, сообщили о смерти королевы Елизаветы II.
Судебным проклятиям и казни подвергались не только насекомые, но и самые различные виды животных. Список злостных средневековых правонарушителей включал в себя ослов, быков, петухов, коров, собак, дельфинов, угрей, полевых мышей, коз, лошадей, кротов, крыс, змей, овец, слизней, улиток, горлиц, волков, червей и прочих паразитов. Самыми распространенными подсудимыми были свиньи, которые, согласно поверьям, были легкой добычей для дьявола, но в то же время свободно разгуливали по улицам средневековых городов, что делало их также и легкими к поимке преступниками.
За что судили свиней? ↓
Один из самых ярких судебных процессов над свиньями прошел в январе 1457 году во французской Бургундии. Свинья и ее шесть поросят, проживающие в Сюр-Этанге, обвинялись в убийстве, расчленении и пожирании младенца. Свиноматка была признана виновной и приговорена к смерти через повешение. Ее отпрысков помиловали: отчасти в силу их молодости, отчасти — потому что дурной поступок был совершен под пагубным влиянием матери, но главным образом потому, что суд не нашел достаточных доказательств их соучастия.
С секуляризацией общества животные вообще и тараканы в частности перестали быть носителями души, некой божественной искры, которая наделяет существо сознанием, правами и обязанностями. «Наука доказала, что душа не существует», а таракан полностью лишился субъектности.
Для юриста современной школы сама постановка вопроса о том, что таракан может обладать какими-либо субъективными правами, покажется дикостью. Все животные в контексте отечественного и зарубежного законодательства не признаются сущностями, способными быть носителями прав. Даже в Европейском союзе, где законодательству о защите животных исторически уделяется особое внимание, подход, наделяющий животных «правами», является скорее маргинальным.
Однако даже в качестве объекта права тараканы неоднозначны.
Бесхозяйная вещь
В силу статьи 137 Гражданского кодекса РФ животные, включая тараканов, считаются специфическим видом имущества — одушевленными движимыми вещами. При этом законодательство осторожно признает за животными способность иметь и проявлять свою волю. Например, животное может вполне адекватно выражать расположение к одному человеку, и наоборот, вести себя агрессивно по отношению к лицу, которое обращалось с ним жестоко. Именно поэтому прежний собственник домашнего животного
по положению пункта 2 статьи 231 Гражданского кодекса РФ
потребовать возврата животного, если у питомца сохраняется привязанность к прошлому хозяину или если новый хозяин с ним жесток.
Правда, наличие воли авторы Гражданского кодекса готовы допустить только у домашних животных. Впрочем, тараканы могут относиться к таковым в силу юридического определения:
«Домашние животные — это животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца — физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы».
В перечне животных, запрещенных к содержанию, таракан не значится. При этом в городе это насекомое обычно живет в квартирах, а не зоопарках или океанариумах, а выходя из-под плинтуса на свет вполне может оказаться и под временным надзором жильцов. То есть при буквальном прочтении закона таракан — домашнее животное. Просто ничейное.
Проблема в том, что приобретение права собственности на безнадзорного таракана
в силу статей 230 и 231 Гражданского кодекса РФ
только по истечении шести месяцев с момента заявления о его задержании — при условии, что его собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на насекомое. То есть, если к вам в квартиру заполз таракан, прежде, чем он станет вашим тараканом, придется полгода наблюдать за насекомым и надеяться, что условный сосед не заявит на него право собственности.
Кроме того, важно вовремя заявить о задержании безнадзорного таракана. Информацию об установлении надзора необходимо подать в полицию или орган местного самоуправления не позднее трех дней с момента поимки насекомого. Реакцию сотрудника правоохранительных органов на такое заявление предугадать сложно… тем не менее, подобная авантюра формально следует из положений законодательства. После подачи заявления о поимке необходимо полгода содержать таракана в надлежащих условиях, нести ответственность за его преднамеренное убийство или
Как испортить таракана — вопрос дискуссионный. Можно погнуть усик, например.
. Впрочем, не каждый таракан продержится установленные законом шесть месяцев: вся жизнь домашнего рыжего таракана укладывается в 6-12 месяцев. Есть риск, что насекомое умрет ничейным. Закон суров, но это закон.
С учетом сложности процесса приобретения права собственности на таракана, его удобнее было бы признать бесхозяйной вещью, то есть — не имеющей собственника. Впрочем, и такое толкование статуса таракана спорно. Ряд ведущих правоведов склоняются к мнению, что имуществом может быть лишь животный объект, который «извлечен» из живой природы. Ведь без извлечения из естественной среды обитания взаимодействие человека и животного сведено к минимуму. Если таракана не изъяли из природного обиталища, скажем, не пересадили из-под плинтуса в террариум, то и объектом собственности он не становится: таракан не просто ничейный, а даже вещью не является. Получается, у насекомого может не быть даже права принадлежать.
Если таракан — и не субъект, и не бесхозяйная вещь, что же он тогда?
Граница естественной свободы
В широком смысле возможно отнести таракана к
организмам животного происхождения, входящих в совокупность живых организмов всех видов диких животных
, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и
статья 1 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире»
в состоянии естественной свободы. Животный мир, включающий, судя по всему, и членистоногих, в пределах территории Российской Федерации
статья 4 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире»
государственной собственностью. Эта смена тараканьего правового режима имеет два следствия:
- нечто, находящееся в государственной собственности, все же является имуществом (вещью);
- уничтожение государственного имущества может быть основанием для привлечения к ответственности. Что в отношении уничтожения тараканов звучит как минимум непривычно.
Однако в современной отечественной судебной практике мы не встретим дел, в рамках которых кто-то привлечен к ответственности за уничтожение тараканов как госимущества. Более того, уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, узаконено и даже обязательно для большого спектра специальных объектов: многоквартирных домов, гостиниц, общежитий, больниц, школ, детских садов, различных видов транспорта, таможни, кладбищ, пляжей и
смотри пункт 1 приложения № 3 Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299
. Очевидно, что тараканы, забредшие на перечисленные объекты, превращаются в анти-благо, от которого необходимо избавляться допустимыми методами.
Таракан, пересекая границу между средой обитания и специальными объектами (квартирами, школами, транспортом), заходит не в ту дверь и изменяет свой правовой режим. Когда он заползает в дом, транспорт или детский сад, то прекращает быть частью животного мира и выходит из владения государства. Какое-то время, до обнаружения, насекомое может существовать в правовом вакууме, не имея юридических свойств. Но как только таракана заметили, он становится виновным по умолчанию — вредителем, подлежащим системному уничтожению.
И увы, ничто не может защитить таракана даже от самых жестоких расправ. Взаимодействие человека и с дикими, и с домашними животными регулируется
статья 11 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животными», которая запрещает причинять животным непереносимую боль, проведение боев животных, нанесение травм или увечий и умерщвление животного. Только вот к предмету указанных нарушений исторически относят только высших животных — млекопитающих и птиц, но
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 томах Особенная часть. Раздел IX (постатейный, том 3, отв. ред. В.М. Лебедев, «Юрайт», 2017
. Сужение особого правового статуса только до высших животных
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2010. С. 245 — 246
тем, что условием поступка, посягающего на общественную нравственность, является то, что боль и мучения животного должны быть очевидны при внешнем наблюдении. Таракан же страдает незаметно, безмолвно, «сжимая руки, приготовился страдать».
Получается, за многовековую эволюцию юриспруденции правовой режим таракана заметно изменился в худшую сторону. Церковь признавала, что у таракана есть душа и правовая субъектность. Секуляризация душу отобрала и ничего не предоставила взамен. Переход от общества, регулируемого религиозной традицией, к обществу, существующему на основе внерелигиозных, в том числе юридических, норм, обернулся для таракана правовой катастрофой: он и не безхозяйная вещь, и не госимущество, и даже ответственного отношения не требует, потому что недостаточно очевидно страдает. Но что мы знаем о муках таракана?
Право на страдания
Способность испытывать боль считается одним из важных критериев сознания и разумности (sentience).
От редактора
В строгом же смысле sentience — это способность переживать чувственные феномены типа боли, наслаждения и тому подобных. В пределах понятия «сознание» sentience жестко отличается от домена cognition, к которому относятся речь, способность выносить суждение и в целом мыслить.
В 2020 году международная ассоциация по изучению боли определила ее как «неприятный чувственный и эмоциональный опыт, связанный с реальным или возможным повреждением тканей». То есть истинная боль не просто восприятие болевого сигнала, но и чувственное, когнитивное переживание — она осознается, осмысляется, окрашивается эмоциями и запоминается. Еще Декарт считал боль одним из телесных состояний самосознания, которые «научат меня, что “я” и мое тело составляем единое целое». Напротив, при некоторых нарушениях, например, асимболии, происходит расщепление боли и самосознания, деперсонализации боли: на уровне рецепторов человек воспринимает болезненный стимул, но эта боль ему не принадлежит и не вызывает эмоций.
Чтобы узнать, оценивает ли человек свой опыт болезненным, с ним можно поговорить. А вот с нечеловеческими видами поговорить не выйдет. Тем не менее, для феномена боли в теории необходимо четыре компонента:
- рецепторы боли;
- нейроны, проводящие болевой сигнал;
- центры обработки сигнала;
- формы поведения, которые свидетельствуют об осознанной реакции на боль.
И если с рецепторами, нейронами и центрами все относительно понятно — либо они есть, либо их нет — то при оценке поведения возникают сложности.
Почти все животные способны обнаружить травмы, реагировать на них или демонстрировать рефлексы, позволяющие избежать повреждений: например, сжаться в комок при ударе током. Но, вероятно, это лишь ноцицепция, раздражение болевых рецепторов, но не полноценная боль? А если животное после удара током начинает избегать места, где ему было больно и ведет себя беспокойно? Это просто рефлекс или уже рефлексия? Если животное готово потерпеть боль, чтобы получить побольше сладкого сиропа или избежать нападения хищника — это уже разумность или еще нет? (Подробно про боль и сознание мы рассуждали в тексте «Больше боли».)
Именно из-за такой сложной сцепки феномена боли и феномена сознания, способность страдать имеет решающее значение для этических предписаний не только в рамках обращения с домашними, но и с лабораторными животными. Для позвоночных право на страдание и одновременно нормы исследовательской биоэтики появились еще в 1876 году, когда британский парламент принял первый закон о жестоком обращении с животными. Для беспозвоночных времена стали меняться совсем недавно. В 2021 разумность и
Впрочем право страдать оказалось абсолютно бессмысленным — объявление омаров и осьминогов разумными никак не повлияло на действующее законодательство ни в рамках лабораторных практик, ни в рыболовной отрасли, ни в ресторанной индустрии.
признали для осьминогов, крабов, омаров и всех прочих десятиногих ракообразных и головоногих моллюсков.
Заслуживают ли признания разумности и защиты и другие виды беспозвоночных — вопрос дискуссионный. Простые беспозвоночные до сих пор считаются животными, неспособными к чувственным переживаниям, и в том числе — признаются и неспособными страдать. Из этого следует, что по всем биоэтическим нормам ученым в отношении таракана дозволено многое: использовать в экспериментах большое число особей, содержать в тесных и некомфортных условиях, ампутировать конечности без анестезии, препарировать живьем…
И тогда к нему толпою
Вивисекторы спешат
Кто щипцами, кто рукою
Таракана потрошат.
Сто четыре инструмента
Рвут на части пациента
От увечий и от ран
Помирает таракан.
Николай Олейников, «Таракан»
Впрочем, сейчас этот
но не слишком этичный
консенсус, кажется, расшатывается. Некоторые исследователи стали говорить, что беспозвоночные виды с относительно простым устройством нервной системы, такие как насекомые, заслуживают пересмотра морального статуса. В 2020 году философы Ирина Михалевич и Рассел Пауэлл указали, что существующая биоэтика основывается на устаревшей интерпретации эволюции как лестницы восходящей сложности: позвоночные создания занимают более высокое положение, а беспозвоночные — ступеньку значительно пониже.
Но это представление, во-первых, несовместимо с изменившейся концепцией эволюции: развитие форм жизни — не прямая линия, а несколько независимых, изолированных и ветвящихся эволюционных лучей, каждый из которых равноправен соседним (подробнее про непростую эволюцию нервной системы мы писали в тексте «Колыбель для разума»). Во-вторых, предположение, что все насекомые глупы, плохо согласуется с экспериментальными данными о когнитивных способностях социальных насекомых. Так, у пчел есть сложно устроенный танцевальный язык, они также способны считать, обучаться у сородичей и использовать простые инструменты. Муравьи сообща решают сложные пространственные задачи (про это мы писали тут). Шмели продемонстрировали способность к субъективному опыту: отличать приятное от неприятного, страдание от удовольствия.
Как исследовали шмелиные страдания? ↓
В 2008 году был проведен эксперимент, в котором шмели подвергались нападению искусственного паука. После негативного опыта шмели нехотя и с опаской приближались к подозрительным цветкам и, напротив, после получения сладкого сиропа пчелы подлетали к цветкам с большой готовностью.
Но несмотря на то, что пчелы зарекомендовали себя довольно сознательным видом, лишь одна страна, Норвегия, регулирует исследования на них. Муравьев пока что никто ни во что не ставит. Тараканов, несообразительных несоциальных насекомых, —
Согласно решению Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» тараканов даже за лабораторных животных не считают. В отличие от мышей, песчанок, крыс, морских свинок, кроликов, хомяков, кошек, собак, нечеловекообразных приматов и птиц, а также их оплодотворенных яйцеклеток и эмбрионов.
.
Выходит, современная наука, наряду с юриспруденцией, тоже не помогла таракану: не вернула утраченную субъектность, не защитила этикой. Тараканьи права в лаборатории зиждятся на совести исследователя: будет ли он проводить эксперименты в соответствии с существующей биоэтической вседозволенностью или отнесется к насекомому так, словно оно чувствует боль, словно оно сознательно. Не потому, что таракана можно считать разумным, а потому, что не доказано обратное.
Несвоевременность — вечная драма
Когда и если тараканов признают разумными или хотя бы способными испытывать боль, их правовой режим, вполне вероятно, изменится. Во всяком случае, за жестокое обращение с ними, а также за пропаганду жестокого обращения как минимум формально будет грозить ответственность. Но в этом случае возникнет трудноразрешимая коллизия между нормами о дезинсекции и о защите животных. Неужели в будущем мы станем свидетелями обсуждения методов гуманного умерщвления или переселения тараканов, как поступали со средневековыми жуками-долгоносиками? Или, напротив, застанем обсуждение вопроса репатриации тараканов в страны СНГ? Ведь с начала нулевых наблюдается отчетливая депопуляция тараканов-прусаков в России, вызванная отчасти воздействием человека: усовершенствованием инсектицидов и улучшением санитарного состояния домов.
Заметно, что правовой режим таракана оказывается чудовищно противоречив, но что хуже — он зачастую зависит даже не столько от внутреннего мира насекомого, сколько от того, окажется ли таракан в неправильном месте в неправильное время.
Вызовите таракана в средневековый суд — и он станет субъектом равным человеку. Поймайте его в коридоре и перенесите его за усики в террариум — и таракан станет движимой вещью, принадлежащей человеку. Отнесите его на ладони на лестничную площадку — и он станет виновным по умолчанию вредителем: раскрытие конспиративного убежища таракана в многоквартирном доме грозит насекомому немилосердной смертью. Донесите несчастного таракана до куста во дворе — и таракан обернется объектом животного мира в состоянии естественной свободы. Если же таракан забредет в лабораторию — станет экспериментальным животным, благополучие которого пока что не обеспечивается ни национальными, ни международными этическими нормами.
Таракан бежит и бежит и бежит на своих шести лапках из одного правового режима в другой. Но в итоге он топчется на месте — в бесправии.