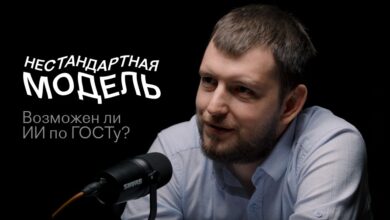Богатые люди привлекают внимание. Одни ими восхищаются, другие — льстят, третьи презирают. Отношение к богатству в западной культуре менялось: в Средневековье христианская этика считала демонстрацию богатства греховной, со временем отношение к социально-экономической группе богачей стало мягче, но и сейчас сам факт существования сверхбогатых людей — источник постоянного беспокойства и социального напряжения. При этом экономическое неравенство сохраняется на протяжении истории, воспроизводит себя и усиливается. В книге «История богатства на Западе. Как боги среди людей» (издательство «АСТ»), переведенной на русский язык Александром Яковлевым, итальянский историк Гвидо Альфани рассказывает об истории богатства в западном мире: как происходило накопление и перераспределение капитала у отдельных людей и семей, как менялось отношение к богатым людям, как они влияли на экономику, политику и культуру. Предлагаем вам ознакомиться с фрагментом о том, как реорганизация почтовых служб помогла итальянской семье Тассо стать частью сверхбогатой немецкой знати Турн-и-Таксис.

Новые возможности в Старом Свете
Если способы обогащения, связанные с использованием ресурсов Нового Света, как правило, привлекали сомнительных персонажей или, как минимум, вынуждали многих людей прибегать к сомнительным практикам, экономические достижения в Старом Свете предоставляли такие возможности разбогатеть, которые больше соответствовали современному идеалу успеха, основанному на «заслугах». Начиная с раннего Нового времени некоторые отрасли промышленности, такие как крупномасштабная добыча полезных ископаемых, рыболовство и, конечно, весь комплекс текстильной промышленности, претерпели впечатляющие изменения, предоставив хватким предпринимателям массу возможностей для успеха.
В частности, рыболовство, а если конкретнее — развитие крупномасштабного и промышленного лова сельди в Северной Европе. Огромные прибыли принесло здесь использование важнейшего новшества — изобретения сельдевого бауса — специализированного промыслового судна. Баус был разработан на голландских верфях в XV веке и стал кульминацией многовекового процесса, в ходе которого рыбаки пытались продавать свою слабосоленую сельдь на внутреннем рынке и в странах Балтийского региона, где на протяжении большей части Средневековья доминировала более качественная (и более вкусная) сельдь из Южной Швеции. По сути, промысловый баус был судном-фабрикой — прямым предшественником (наряду с китобойными судами) современных рыбоперерабатывающих комплексов, оснащенных морозильным оборудованием. В отличие от более ранних судов, баус мог оставаться в море подолгу (от пяти до восьми недель) и перерабатывать продукт на борту, используя разные инновации, ускоряющие потрошение и засолку рыбы. Это позволяло рыбакам вести промысел дальше от порта, плавая по Северному морю в поисках косяков сельди, поскольку у побережья их численность сократилась.
Хотя впервые сельдевые баусы начали использоваться в XV веке, для отработки технологии потребовалось внедрить много технических новшеств, а для бесперебойного функционирования этого промысла потребовались дополнительные инновации в организации бизнеса и финансировании (особенно partenrederij — форма партнерства, позволявшая городским владельцам капитала осуществлять совместные инвестиции в конкретные суда, снижая риск для отдельного инвестора), а также институциональная поддержка отрасли, например мониторинг качества. Этот сложный и постепенный процесс был завершен только ко второй половине XVI века. После этого число действующих промысловых судов стремительно росло, достигнув пика в начале XVII века, когда в одной только Голландии выходило в море 500 судов. Производство увеличилось почти в четыре раза по сравнению с серединой XVI века, что позволило Голландской республике монополизировать рынок и удерживать свои позиции до конца XVII века. Поскольку большинство рыболовецких фирм владели только одним или двумя сельдевыми баусами (хотя у некоторых бывало и до десяти), количество предпринимателей, активно работавших в этой сфере, было довольно большим. Если учесть, что еще большую прибыль можно было получить, не промышляя, а торгуя соленой сельдью (которая стала основным предметом голландского экспорта в Балтийском регионе), станет понятно, как небольшая «сельдевая революция» в Голландской республике создала широкие возможности для обогащения.
Пример с голландской рыбной промышленностью — образец преобразующей силы технологических инноваций, которой они обладали задолго до начала промышленной революции. Другим хорошим примером
В частности, мельница с водяным приводом, которая позволяла сэкономить рабочую силу, снизить себестоимость производства изделий из шелка и, таким образом, значительно расширить потенциальный рынок сбыта.
, появившаяся в Италии в XIII веке. Как мы видели в случае с рыбной промышленностью, технические новшества могут быть использованы в полной мере лишь при условии, что они сопровождаются другими видами инноваций в деловой практике, в организации труда и в соответствующих институциональных рамках. Инновации такого рода имели решающее значение и для успеха тех, кто стремился извлечь выгоду из одного из важнейших исторических явлений Нового времени: резкого увеличения силы и масштаба государства и сопутствующего увеличения чиновничества.
Помимо возможностей для обогащения «изнутри», то есть за счет хорошо оплачиваемых должностей, государствам раннего Нового времени приходилось «передавать на аутсорсинг» широкий и постоянно растущий набор служб. Многие из них были связаны с ключевой функцией — сбором налогов. Действительно, сборщики налогов регулярно фигурируют в числе самых богатых членов доиндустриальных европейских обществ, о чем подробнее будет рассказано в следующей главе. В иных случаях государство приобретало у частных предпринимателей разработанные ими инновационные услуги, которые со временем приобрели важное (и даже стратегическое) значение. Именно так произошло с почтовыми службами, которые в их современном виде были разработаны итальянской семьей Тассо (или де Тассис в латинизированном варианте), ставшей впоследствии частью престижной и сверхбогатой немецкой знати: Турн-и-Таксис.
Ключевую роль в этой истории играет Франческо Тассо, родившийся в 1459 году в итальянской деревне Корнелло на севере Ломбардии. Он опирался на опыт, накопленный в предыдущие десятилетия членами его семьи, которые основали в Венеции частную корпорацию Compagnia dei Corrieri, предоставлявшую республике почтовые услуги. Другая ветвь этой семьи, Сандри, предоставляла аналогичные услуги папскому двору в Риме. В 1489 году старший брат Франческо, Яннетто, стал директором почтовой службы императора Священной Римской империи Максимилиана I Габсбурга, а к концу столетия получил в качестве платы за услуги несколько шахт и феодальное владение в австрийском регионе Каринтия (добыча полезных ископаемых останется для Тассо важной сферой деятельности). Но именно Франческо вывел семейный бизнес на совершенно иной уровень, радикально реформировав способ организации почтовых услуг на всем европейском континенте. В 1501 году в Брюгге он был назначен Maistre et Capitaine de Postes (Мастером и капитаном почты) сына Максимилиана, Филиппа Красивого, — этот эпизод обычно считается поворотным моментом в развитии общеевропейской почтовой системы. Первоначально Франческо Тассо пригласили в качестве частного подрядчика для реорганизации почтовых служб владений Филиппа в Нидерландах и Бургундии. В 1505 году, вскоре после того как молодой герцог через супругу Хуану стал королем Кастилии Филиппом I, был заключен новый контракт, по которому Франческо должен был обеспечить почтовое сообщение между главным почтовым отделением в Брюсселе с южным городом Гранада в Испании, а также с целым рядом находящихся между ними французских городов. Наконец было установлено сообщение с императорским двором в Инсбруке, и следует подчеркнуть, что сложный и территориально фрагментированный характер владений Габсбургов в Европе XVI века сыграл важную роль в возникновении потребности в новом виде регулярной всеевропейской почтовой связи (в 1516 году эта служба была распространена на Италию, отобразив экспансию Габсбургов на эти земли). Контракт от 1505 года предусматривал ежегодное пособие Франческо в размере 12000 фламандских ливров для обеспечения высококачественного обслуживания, которое он добросовестно предоставлял: в те годы почта из Брюсселя доходила до Инсбрука за 5 дней, а до Гранады — за 15 (зимой — за 6 и 18 соответственно).
Франческо Тассо оказался настолько способным почтовым предпринимателем, что в 1515 году император Максимилиан пожаловал ему новые владения и высокий титул пфальцграфа. Семья сделала решительный шаг к высокому дворянскому статусу. В 1518 году Франческо умер, не оставив прямых потомков, но его место занял племянник Джованни Баттиста Тассо (один из его многочисленных семейных соратников), и далее оно передавалось по наследству. Семейный бизнес продолжал расширяться, открывались новые почтовые маршруты. Тассо руководили своей службой на основе соглашений с местными органами власти, что позволило им практически добиться монополии в этом секторе и не один век ее удерживать. Услуга, которая первоначально предоставлялась только правителям и высшим чиновникам, к началу XVII века была открыта для всех, кто мог позволить себе уплатить по установленному тарифу, что значительно расширило масштабы бизнеса. Максимального могущества семья достигла в XVII веке, когда другой император Священной Римской империи, Рудольф II, постепенно превратил все почтовые услуги в императорскую привилегию, предоставив их выполнение исключительно семье Тассо, — этот шаг был направлен на усиление власти императора над остальной знатью. Следующий шаг, который может показаться несколько странным современному человеку, — назначение в 1615 году Ламорала Тассо на высокий пост имперского почтмейстера,
Формально это было продлением привилегии, которой Тассо пользовались с конца XVI века, но теперь император Матиас (брат и преемник Рудольфа II) передал ее по наследству потомкам Ламораля.
: средневековые феодальные институты адаптировались для удовлетворения современных потребностей. В 1624 году семья Тассо еще больше возвысилась, став freiherren (нем. «баронами») империи. Примерно в то же время, чтобы закрепить свои притязания на дворянский статус и лучше интегрироваться в немецкую элиту, они начали называть себя Турн-и-Таксис, присовокупив к своей фамилии фамилию той миланской семьи с древним лонгобардским происхождением, от которой они якобы вели свой род — делла Торре («башня», или по-немецки turm [«турм»]). В 1682 году Турн-и-Таксис стали имперскими князьями, а в 1754 году даже стали вхожи в Рейхстаг, высший законосовещательный орган Священной Римской империи. Эта семья управляла почтовыми службами в Центральной Европе и в последующие десятилетия. Несмотря на то что новая политическая ситуация XX века становилась все более угрожающей, служба просуществовала вплоть до оккупации Пруссией Франкфурта, где во время Австро-прусской войны 1866 года находилась штаб-квартира Турн-и-Таксис. Однако эта семья и по сей день остается одной из самых богатых в Германии.
История Тассо (Турн-и-Таксис) — один из ярких примеров того, что накопление богатства приводило к обретению высокого статуса (в данном случае даже к формальному принятию в высшую знать) и к политической власти. Она свидетельствует и о том, как выдающиеся личности могут обеспечить благосостояние своей семьи на несколько веков вперед. Хотя семья Тассо продолжала заниматься своим бизнесом, пока не вмешались обстоятельства, попытка определить степень, в которой обладание большим богатством было результатом личных способностей представителей династий, встретит множество проблем. Однако перед рассмотрением этого аспекта сосредоточим внимание на том периоде истории Запада, который традиционно считается наиболее благоприятным для инноваций: промышленной революции (революциях).
Подробнее читайте:
Альфани, Гвидо. История богатства на Западе. Как боги среди людей / Гвидо Альфани; [перевод с английского Александра Яковлева]. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 368 с.