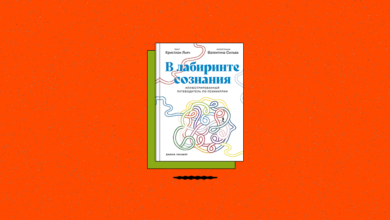Гигантские броненосцы, сумчатые львы, мамонты и мастодонты — этих и многих других животных принято относить к мегафауне (мы рассказывали о них в материале «Когда ленивцы были большими»). Они обитали на Земле на протяжение многих веков, но исчезли в течение последних 50 тысяч лет. В книге «Конец мегафауны: Увлекательная жизнь и загадочная гибель мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев» (издательство «Альпина нон-фикшн»), переведенной на русский язык Павлом Купцовым и Марией Багоцкой, палеонтолог Росс Макфи рассматривает гипотезы вымирания самых крупных животных в истории нашей планеты. Предлагаем вам ознакомиться с фрагментом о том, когда ученые начали обсуждать роль человека в исчезновении гигантских животных.
Человечество как катастрофа
Как уже отмечалось выше, убеждение, что люди каким-то образом причастны к недавним вымираниям, почти так же старо, как и идея о влиянии климатических факторов. Однако долгое время не предпринималось никаких попыток детально разобраться в роли людей в этом процессе. Отчасти эта задержка была связана с религиозными воззрениями, согласно которым человек и давно вымершая мегафауна не могли существовать одновременно (рис. 5.5). Однако отношение к этой проблеме начало меняться, когда появились доказательства связи ископаемых человеческих остатков и вымерших животных.
По иронии судьбы главный градуалист Лайель первым привел убедительные доводы в пользу причастности человека в вымирании видов во время ледникового периода. Хотя раньше он сомневался в одновременном существовании древних людей и мегафауны, к 1860-м годам появились бесспорные доказательства их пересечений во времени. В своей работе «Геологические доказательства древности человека» (Geological Evidences for the Antiquity of Man) он признал это, написав:
Мы можем предположить, что постепенное вымирание или истребление большого количества диких зверей, которые встречаются в постплиоценовых (то есть плейстоценовых) отложениях, но отсутствуют в современной фауне, было длительным, поскольку мы знаем, как трудна задача истребления вредного четвероногого животного, например волка, в наше время, даже с помощью огнестрельного оружия. <…> Однако следует признать, что растущая мощь человечества, возможно, способствовала уничтожению многих видов постплиоценовой эпохи.
И все же Лайель приводил доводы не только в пользу истребления животных человеком. С его точки зрения, люди были сопутствующим фактором, но не единственной причиной вымирания мегафауны. Он говорит, что это не было быстрым процессом, и продолжает:
По всей вероятности, причины более общие и значительные, чем деятельность человека, — изменение климата, смещение ареалов многих видов животных, позвоночных и беспозвоночных, а также растений, географические изменения высоты, глубины и протяженности участков суши и моря, все вместе или по отдельности — привели в течение продолжительного ряда лет к уничтожению не только многих крупных млекопитающих [но также и других видов].
Собрав в своих рассуждениях все возможные причины вымирания мегафауны, Лайель, должно быть, счел вопрос о том, что именно вызвало гибель того или иного вида, либо выходящим за пределы человеческого понимания, либо не имеющим однозначного ответа.
Как это ни удивительно, но Дарвин не занял никакой твердой позиции по вопросу, была ли человеческая деятельность главной причиной вымирания или нет. Как отметил археолог из Вашингтонского университета Дональд Грейсон, Дарвину, конечно же, было известно, что Лайель объяснял вымирание мегафауны в Европе и Северной Америке ее истреблением людьми. Но на самом деле Дарвин не знал, почему произошли некоторые вымирания. Он писал: «Нам нечего изумляться факту вымирания; если и есть чему изумляться — это нашей самонадеянности, позволяющей нам воображать, что мы понимаем всю ту совокупность сложных условий, от которых зависит существование каждого вида».
Вклад Альфреда Уоллеса (1823–1913) в эволюционную биологию часто недооценивают, потому что он оставался в тени своего гораздо более известного современника Чарльза Дарвина. Уоллес был разносторонним человеком, и эти его стороны иногда противоречили друг другу. Он был блестящим наблюдателем, но также верил и в существование ангелов. Ближе к концу жизни он развивал идею, что эволюция на самом деле направлялась не естественным отбором, как он думал раньше, а теми самыми божественными посланниками. Тем не менее он брался за сложные вопросы и в том, что касается вымирания мегафауны, оказался значительно более проницательным, чем его современники.
Мы не можем не признавать, что для таких значительных перемен должна быть физическая причина; и это должна быть причина, способная проявиться одновременно на большой части земной поверхности. Такую причину можно найти в недавних крупных физических изменениях, известных как «ледниковая эпоха» <…> [которая] могла повлиять разными способами, изменив уровень океана, а также вызвав сильные локальные наводнения, которые в сочетании с резким похолоданием уничтожили животных.
Может показаться, что эта цитата Уоллеса о причинах вымираний не слишком отличается от взглядов Кювье и Агассиса, но на самом деле он считал, что наступление «ледниковой эпохи» объясняет только некоторые вымирания. Он мог представить, что оледенение повлияло на животных высоких широт как Cеверного полушария, так и южной части Южной Америки, носящей следы плейстоценового оледенения, где к тому времени был обнаружен целый ряд вымерших видов мегафауны. Но он не мог понять, как оледенение в высоких широтах могло столь сильно повлиять на расположенные ближе к тропикам регионы планеты, такие как Австралия, где недавно вымерли виды, которые авторитетный анатом и палеонтолог Ричард Оуэн (1804—1892) описал как «не уступающие по весу видам с больших континентов». Оуэн начал задумываться о роли человека в этих вымираниях (см. илл. 4. 10). Уоллес не знал ответа, но он задал правильный вопрос. Должно было произойти что-то еще.
В начале XX века палеонтология четвертичного периода выросла в крупную научную дисциплину. Во всех палеонтологических исследованиях стали уделять внимание такому важному фактору, как время, хотя точно его определять еще не умели. Однако к началу 1930-х годов появились первые догадки, позволяющие соотнести друг с другом временной период, присутствие людей и вымирание мегафауны. Известный палеонтолог из Гарвардского университета Альфред Ромер (1894–1973) писал:
Основная масса данных свидетельствует о том, что лишь незначительное количество вымираний случилось [в Америке] в плейстоценовую эпоху и огромное количество потерь, обеднивших фауну до нынешнего состояния, произошло за сравнительно короткий период, начавшийся, предположительно, не позже 20 000 лет назад или около того. <…> Маловероятно, что [Homo sapiens] сыграл непосредственно главную роль в истреблении этих животных, поскольку в таком случае нам необходимо найти гораздо больше доказательств его связи с вымершими группами, чем у нас есть сейчас. Однако мы можем (очень осторожно) предположить, что появление на определенной территории новой формы жизни такого рода могло, вероятно, нарушить хрупкое равновесие в животном мире, что опосредованно могло привести к значительным изменениям.
Один из первых президентов Американского музея естественной истории и ведущий специалист по палеонтологии млекопитающих Генри Фэрфилд Осборн (1857—1935) заметил, что «в Евразии человечество „выросло“ вместе с плейстоценовой фауной этого региона, поэтому оно всегда в той или иной степени поддерживало экологическое равновесие с окружающими млекопитающим». В Северную Америку же, напротив, люди пришли поздно и были для нее чужаками:
Возможно появление именно этого разрушительного животного, поначалу даже не очень важного, вызвало вымирание столь многих крупных млекопитающих. <…> Нельзя сказать, что человек был непосредственно ответственен за истребление многочисленных огромных стад мамонтов, лошадей и верблюдов, скорее его появление могло нарушить экологическое равновесие, вызвать эпидемии или повлиять иными способами, которые за давностью лет совершенно неясны.
Все могло бы оставаться таким неопределенным и туманным, как говорили Ромери Осборн, если бы не изобретение в 1946 году радиоуглеродного метода датировки, который все изменил. К 1960-м годам, благодаря значительному усовершенствованию приборов и увеличению диапазона измерений (теперь он охватывал примерно все 50 000 лет недавнего времени), радиоуглеродный метод стало возможным использовать для определения возраста любых органических остатков с точностью и достоверностью, которые были недостижимы любыми другими методами.
С появлением радиоуглеродного метода все изменилось и для Пола Мартина (1928–2010) — молодого палеонтолога из Аризонского университета. К концу 1950-х годов, уже глубоко увлекшись миром плейстоцена, он понял, что этот метод позволяет однозначно показать, действительно ли предполагаемые причины вымирания предшествовали их возможным последствиям и насколько близкими были эти события. Что касается вымираний последних 50 000 лет, то теперь можно было проверить, как соотносятся во времени исчезновения видов в разных частях света. И конечно, с помощью радиоуглеродного метода можно было датировать недавние события, связанные с расселением человечества. Пришло время предложить новое объяснение причины вымираний, единое повсюду на Земле и хорошо проверяемое.
Подробнее читайте:
Макфи, Р. Конец мегафаун ы: Увлекательная жизнь и загадочная гибель мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев / Росс Макфи ; Пер. с англ. [Павла Купцова и Марии Багоцкой] — М. : Альпина нон-фикшн, 2025. — 276 с . : ил.