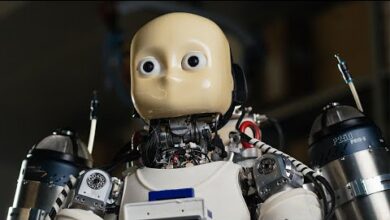Зоологи выяснили, что сокращение численности какапо из-за охоты, сведения лесов и распространения инвазивных хищников ударило по их эндопаразитам. Как показал анализ копролитов и замороженных образцов помета этих попугаев, в течение последних столетий встречаемость и видовое богатство их паразитов, как и численность отдельных видов этих организмов, снижались. Вероятно, из-за сокращения популяций и ареала какапо их паразитам становилось все труднее найти хозяев. Несмотря на то, что с 1990 годов численность какапо растет благодаря охране, упадок их паразитов продолжается. При этом некоторые паразиты этих птиц, возможно, уже полностью вымерли. Статья опубликована в журнале Current Biology.
Вымирание одного биологического вида, как правило, приводит к исчезновению или упадку целого ряда других видов, которые от него зависели. В первую очередь это касается паразитов — особенно узкоспециализированных, которые по крайней мере на одной из стадий жизненного цикла эксплуатируют только один определенный вид хозяев. Например, вместе с крысами Rattus macleari, которые обитали на острове Рождества в Индийском океане и вымерли от болезней, передавшихся им от инвазивных черных крыс (R. rattus), полностью исчезли и их видоспецифичные блохи Xenopsylla nesiotes. При этом меры, направленные на спасение редкого вида, парадоксальным образом могут привести к вымиранию его паразитов. Так, в 1980 годах в ходе программы по разведению в неволе последних выживших калифорнийских кондоров (Gymnogyps californianus) орнитологи обрабатывали этих птиц средствами от паразитов и невольно истребили их видоспецифичных пухопероедов Colpocephalum californici.
Команда зоологов под руководством Александра Боаста (Alexander P. Boast) из Исследовательского института Манааки-Фенуа решила подробнее изучить проблемы, с которыми сталкиваются паразиты редких и исчезающих видов. В качестве примера исследователи использовали какапо (Strigops habroptilus) — крупных нелетающих попугаев из Новой Зеландии. Когда-то эти птицы были довольно многочисленными и обитали по всему новозеландскому архипелагу. Однако после колонизации островов людьми — полинезийцами в XIII веке и европейцами в XVIII веке — численность какапо начала резко сокращаться из-за охоты, сведения лесов и распространения инвазивных
В первую очередь горностаев (Mustela erminea).
и грызунов. К 1990 годам в мире оставался всего 51 представитель этого вида. Чтобы спасти какапо от вымирания, специалисты по охране природы в 1970-1990 годах переселили всех выживших особей из Фьордленда и с острова Стьюарт, где сохранялись две последние популяции вида, на свободные от хищников островки у новозеландского побережья. Здесь была запущена программа по разведению. Благодаря этим усилиям численность какапо к настоящему времени выросла до примерно 250 особей — и их даже начали реинтродуцировать на Северный остров Новой Зеландии.
Чтобы понять, как непростая судьба какапо отразилась на их паразитах, Боаст и его коллеги провели анализ окаменевшего и замороженного помета этих попугаев. В выборку вошли 111 копролитов, датированных 400-1900 годами нашей эры, из семи пещер Южного острова Новой Зеландии; 34 замороженных образца помета, которые были собраны в 1960-1980 годах во Фьордленде и на острове Стьюарт; а также 78 замороженных образцов помета, собранных после 1990 года на четырех свободных от хищников островках (Мод, Кодфиш, Литтл-Барриер и Анкор). Образцы осмотрели под микроскопом и метабаркодировали по гену 18S рРНК. Кроме того, авторы провели анализ копролитов лесных малых моа (Megalapteryx didinus) из пещер Южного острова.
Генетический анализ образцов выявил присутствие 24 таксономических единиц эндопаразитов, из которых 18 были отмечены только в копролитах и замороженном помете какапо, а пять — только в копролитах лесных малых моа (еще одну такосномическую единицу исключили из дальнейшего анализа, поскольку она присутствовала только в копролите, принадлежность которого не удалось точно установить). Паразиты какапо принадлежали к споровикам (Eimeriorina), нематодам (Capilliaria spp., Eucoleus sp., Ascaridomorpha и Strongylida), ленточным червям (Cyclophylloidea) и трематодам (Brachylaima sp.). Паразиты моа относились к споровикам (Eimeriorina), нематодам (Heterakoidea) и трематодам (Notocotylidae). Несмотря на то, что копролиты какапо и лесных малых моа одновременно присутствовали по крайней мере в трех точках, авторы
Клады Eimeriorina и Strongylida присутствовали и у какапо, и у моа, но были представлены разными таксономическими единицами.
в помете двух этих видов общих таксономических единиц паразитов. Таким образом, какапо и моа вряд ли обменивались паразитами. Исследователи также обнаружили в испражнениях какапо два типа яиц паразитов. Яйца первого типа присутствовали в копролитах и исторических и современных образцах помета из большинства точек сбора; судя по форме, они принадлежали нематодам из рода Capilliaria. Яйца второго типа были обнаружены только в копролитах с двух точек сбора. Авторы приписали их нематодам из группы Strongylida.
Признаки присутствия паразитов — ДНК или яйца — были выявлены почти в половине окаменевших и замороженных образцов помета какапо (48,4 процента). Степень заражения оказалась наибольшей в исторических образцах из Фьордленда (85,7 процента), а наименьшей — в современных образцах с островка Мод (0 процентов). Со временем этот показатель снижался. Среди копролитов средняя доля образцов с признаками присутствия паразитов составила 59,5 процента; среди исторических образцрв из Фьордленда и с острова Стьюарт — 47,1 процента; а среди современных образцов со свободных от хищников островков — 33,3 процента.
Видовое богатство паразитов в помете какапо также постепенно сокращалось: в копролитах было выявлено 14 таксономических единиц, в исторических образцах — семь, а в современных образцах — пять. При этом из 16 таксонов, отмеченных в копролитах и замороженном помете до 1990 года, 13 не встречались в современных образцах. А среди семи таксономических единиц, отмеченных более чем на одной точке (по мнению авторов, они могли быть видоспецифичными для какапо), четыре не встречались в образцах моложе 1990 года. Возможно, соответствующие им виды вымерли. Другие таксономические единицы выжили, но стали намного более редкими. Например, одна из паразитических нематод (TE 18; Strongylida) присутствовала в 24,3 процента копролитов, но лишь в 2,9 процента и 1,3 процента исторических и современных образцов соответственно. Впрочем, нематоды Capilliaria чаще встречались в современных образцах. А две таксономические единицы вообще отмечены только в современных образцах; возможно, они соответствуют паразитам, которых какапо получили от завезенных в Новую Зеландию видов.
Результаты исследования демонстрируют, что в течение нескольких столетий какапо постепенно теряли эндопаразитов. Скорее всего, из-за резкого сокращения численности и ареала этих птиц их паразитам со временем становилось все труднее находить себе хозяев. В результате встречаемость паразитов какапо снизилась, а некоторые их виды стали более редкими или, возможно, полностью вымерли. Несмотря на то, что в конце XX века численность какапо начала расти, упадок их паразитов продолжился. Исследователи объясняют это отложенными вымираниями или последствиями ветеринарных вмешательств в ходе программы по разведению вида. Как именно эта ситуация скажется на самих какапо, сказать пока трудно. В заключение авторы отмечают, что вымирание паразитов в результате сокращения численности их хозяев может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее. Это означает, что для сохранения биоразнообразия паразитов необходимы дополнительные меры.
Ранее мы рассказывали, как зоологи выявили быстрое сокращение численности паразитов в системе заливов Пьюджет-Саунд на западе США. Проанализировав образцы рыб, выловленных за последние сто лет, исследователи пришли к выводу, что паразитов с тремя и более хозяевами каждые десять лет становится на 10,9 процента меньше. С другой стороны, численность паразитов с одним или двумя хозяевами за сто лет почти не изменилась. Вероятно, популяции паразитов со сложным жизненным циклом страдают из-за роста температуры моря.