
Казалось бы, развитие техники должно облегчать жизнь человека и освобождать время для обогащения его внутренней жизни. Однако, американский историк, социолог и философ техники
Умер 26 января 1990 года.
считал, что оно привело к доминированию технического мышления и обеднению человеческого опыта. В книге «Искусство и техника» («Издательство Института Гайдара»), впервые изданной в 1952 году и теперь переведенной на русский язык Виктором Зацепиным, он рассказывает, что привело к разделению между «органическим» миром искусства и «механическим» миром техники и как это противостояние сформировало современную культуру. Предлагаем вам ознакомиться с фрагментом о том, почему ручной труд был неотделим от самовыражения.
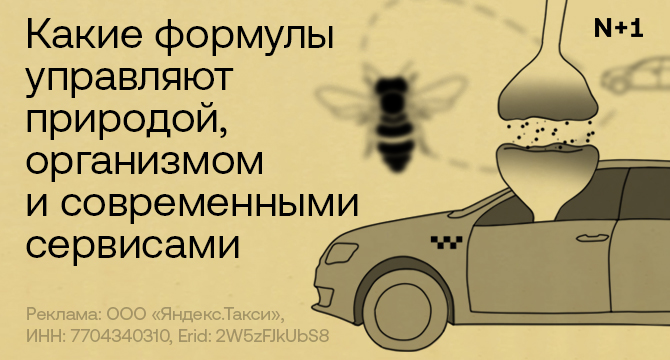
От ручной работы к машинному искусству
Чтобы более основательно понять проблемы, с которыми сталкивается современный человек собственной персоной в результате расходящегося развития искусства и техники за последние несколько столетий, я до сего момента использовал старую педагогическую уловку — исследовать их в их точке зарождения — в их самой чистой форме. Поэтому я трактовал искусство прежде всего как выражение внутренней жизни без всякой отсылки к физическим медиа и процессам, а также конкретным операциям, через посредство которых должна выражаться даже самая утонченно-эфирная форма искусства. Сходным образом я трактовал технику, в той мере, насколько это возможно, как в равной степени чистое состояние, делая акцент на безличных условиях, которые даже в первобытных культурах проявляются в контроле человека над силами природы. Но в действительной истории это разделение не сохраняется.
Искусство и техника идут рука об руку, иногда влияя друг на друга, иногда просто одновременно воздействуя на работника или пользователя. Так что даже на самых древних орудиях каменного века или на оружии, в тех случаях, когда материал позволял символическое выражение, мы видим резьбу, царапины или вытравленные изображения, которые никак не повышают эффективность действия самого инструмента. Выходит, что этот работник должен был и что-то сказать, а не только что-то сделать. Даже когда он служил Прометею, он одним ухом прислушивался к отдаленному звуку орфеевой лиры или к самым невероятным нотам флейты Пана. Несомненно, ритм и форма облегчали психологический груз тяжелого физического труда, как давным-давно предположил Карл Бюхер в своем классическом трактате «Работа и ритм», — и на той стадии искусство, возможно, сняло проклятие и с монотонности работы и даже увеличило продуктивность работника.
В таком случае бо́льшую часть человеческой истории инструмент и предмет, символ и субъект фактически не были разделены. Вся работа исполнялась непосредственно человеческой рукой, и эта рука не была какой-то отдельной или специализированной рукой — это была неотъемлемая часть живого человеческого существа, которое, неважно, сколь преданно оно следовало своему ремеслу, имело много других интересов помимо эффективности работы. Не всякая часть ремесленной работы, как я напоминал вам в предыдущей лекции, по своей природе является творческой или эстетически вознаграждающей.
Но даже самый истерзанный раб с инструментом в руке должен был бы почувствовать импульс придать предмету, с которым он работает, что-то большее, чем требовалось для его работоспособности; он по меньшей мере задумывался бы над тем, чтобы лучше его отполировать, или же он бы в известной степени усовершенствовал его форму для того, чтобы она услаждала взгляд так же хорошо, как вы полняла свою функцию. В некоторых случаях, как например в случае с американской моделью топора, этим прекрасным инструментом, когда мы рассматриваем совершенную форму его ручки, сложно сказать, преобладала ли при его создании практическая или эстетическая цель, настолько в полной мере она удовлетворяет обоим требованиям.
На ранних стадиях культуры, как я еще раз хотел бы вам напомнить, символический интерес обычно преобладал над техническим. Например, в гончарном деле женская грудь или женское тело могли подсказать округлые формы кувшина или вазы; как сообщает нам Витрувий в своем трактате об архитектуре, колонне могла придаваться форма женщины, чтобы изготовить кариатиду с тем, чтобы символизировать унижение, которое выпало на долю жителей конкретного завоеванного города — и теперь их женщины были обречены нести тяжесть антаблемента. Иногда, вместо того чтобы прибегать к таким очевидным символам, ремесленник, строго придерживаясь функциональных нужд в разработке своей формы, довершал ее более игривыми элементами декора. Придав хорошую форму своему масляному горшку или своей плошке, он добавлял на них рисунок с изображением мужей и дев, в храме или в Аркадии, чтобы напомнить тому, кто будет пользоваться этой вещью, о том, что жизнь — это нечто большее, чем изготовление утвари или хранение в ней еды.
Эти формы дополнительного украшения принадлежат к системе ручного труда и обычно отсутствуют в машинах. С самого начала настоящие машины удивительно прагматичны, объективны, sachlich — деловиты, как говорят немцы, в независимости от того, что мы бы взялись изучать, будь то лучковая дрель или же ткацкий станок. Но даже в этом случае объективность не абсолютна, поскольку через личное использование машины «нанимают на работу» какой-то конкретный персонал, создавая качество «я-и-ты» в отношении к тому, кто ими управляет, — поэтому у морских кораблей были деревянные фигуры на носу, а дробовое ружье, это в известной степени капризное оружие, сходным образом украшалось самыми разнообразными орнаментами, тогда как более смертоносная и «деловитая» винтовка быстро избавилась ото всех этих финтифлюшек. Украшения исчезли со швейных и печатных машинок за последние 75 лет, а равно и со многих других предметов, таких как фарфоровая посуда и стаканы, возможно, потому, что так называемое декоративное искусство, производимое машиной, столь же обезличено, как обезличен и функциональный объект, который оно украшает: коротко говоря, оно не более способно пробуждать чувство, чем сама машина, или даже в меньшей степени, потому что в таком искусстве нет прямоты и цельности, свойственной самой машине.
Итак, как бы ни были на деле трудозатратны многие из ранних процессов ремесленного изготовления, две вещи на протяжении большей части истории человечества служили для исправления всего процесса технического развития. Одна из них заключалась в том, что операции находились под прямым контролем самого ремесленника. Он сам распределял время на работу, подчинялся ритмам своего тела, отдыхал, когда устанет, размышлял и планировал, когда продвигался вперед, задерживаясь над теми частями работы, которые интересовали его в наибольшей степени, так что, хотя его работа развивалась медленно, время, которое он за ней проводил, было действительно временем, когда он жил. Ремесленник, как и художник, жил в своем труде, для своего труда и за счет своего труда; вознаграждение за его работу исходило из самой деятельности, а искусство действовало просто для того, чтобы возвысить и интенсифицировать эти природные органические процессы — а не чтобы послужить какой-то компенсацией или способом бегства. Коммерциализированное производство для торговли за рубежом даже в древние времена могло налагать дополнительное давление на работу ремесленника, заставляя его ускорять свой труд или снижать стандарты добросовестного ремесла, или жертвовать своим личным вкладом, так что работа уже не несла бы следа его неподражаемой руки. Однако тот факт, что работник ручного труда является хозяином процесса, коль скоро он уважает природу своих материалов, приносил большое удовлетворение и поддерживал личное достоинство. Еще одной наградой ремесленнику во многих видах искусства и техники было то, что работник мог перейти, с дополнительным техническим умением, от операционной части своей работы к выразительной. Через приобретение навыка в технике он получал, если можно так выразиться, лицензию на то, чтобы заниматься искусством. На этом этапе сама машина делает вклад в творческое освобождение. Например, гончарный круг увеличил свободу гончара, который до этого изобретения был стеснен примитивным методом производства горшков при помощи колец и без посредства какой-либо машины; и даже токарный станок предоставляет определенную свободу действия такому работнику в работе с металлическими пузырями или вздутиями. Таким образом, до определенного момента во всех промышленных искусствах техническое развитие и символическая экспрессия шли рука об руку. И в самом деле, кто может сказать, была бы написана великая струнная музыка XVIII века, если бы скрипичные мастера, такие как Страдивари, не вложили в руки композиторов те великолепные инструменты, которые они создавали?
Пока ручные процессы доминировали — грубо говоря, до середины XIX века, — в более продвинутых странах Запада ручной труд сам был опосредующим фактором между чистым искусством и чистой техникой, между вещами, которые относятся к смыслу и другого использования не имеют, и вещами, относящимися к полезности, которые не имеют другого смысла. Все полезные искусства в известной степени служили и инструментами коммуникации, и средствами результативной деятельности. В горшках и тканой одежде, в домах, алтарях и надгробиях, в церквях и дворцах работник выдумывал не только, как сделать свою работу, но и как идентифицировать себя, как индивидуализировать себя, как себя выразить, как оставить некое сообщение, как бы запечатанное в бутылку искусства, на радость другим людям и для их просвещения. Однако существует один отдел техники, где это счастливое отношение не сохраняется, часть, в которой с самого начала преобладала дегуманизированная система жизни — к этому особому отделу принадлежали горное и военное дело. Свержение интегрального метода мышления, работы и творчества, регулируемого человеческими интересами и человеческими нормами, пришло в западный мир с непропорциональным развитием горного и военного дела. В настоящих лекциях у меня нет времени на то, чтобы проследить это развитие и указать на то, какое несчастливое влияние эти отрасли имели и на эволюцию машины, и на весь ход современной цивилизации. Мне достаточно будет напомнить вам здесь о том, о чем я уже довольно пространно говорил в «Технике и цивилизации» — что деструктивные тенденции в современной технике — обезличение и осквернение окружающей среды и вытаптывание человеческой жизни со все большей безжалостностью — происходят из этих двух родов занятий. Но здесь я хочу сосредоточиться на более созидательных и благотворных аспектах техники, в частности, тех ее частях, которые поощряли духовную жизнь человека.
Подробнее читайте:
Мамфорд, Льюис. Искусство и техника: курс лекций / Л. Мамфорд; перевод
с английского Виктора Зацепина. — Москва : Издательство Института Гайдара, 2025. — 192 с.
