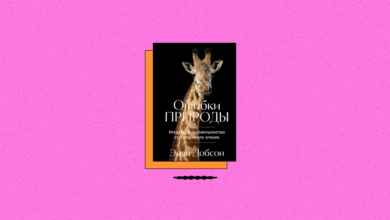В XXI веке интерес к японской культуре, кажется, достиг наивысшей точки: самураи, кайдзю, манга, аниме и косплей за пределами Японии популярны не меньше, чем в родной стране. При этом многое о жизни и взглядах японцев для стороннего наблюдателя так или иначе остается загадкой. В книге «Я понял Японию. От драконов до покемонов» (издательство «АСТ») историк-японист Александр Раевский рассказывает об истории этой страны, мировоззрении ее жителей и истоках наиболее популярных культурных феноменов. Эта книга, а также ее вторая часть, вошли в длинный список премии «Просветитель» 2025 года. Предлагаем вам ознакомиться с фрагментом о разительных отличиях в поведении японцев с близкими и малознакомыми людьми.
Психология песка
<…>
Говоря о японском обществе сегодня, нужно помнить: для его членов это не безликая одинаковая масса (каким оно может представляться европейцам без погружения в культуру), но наоборот — затейливый мир с возрастающими уровнями сложности: там свои границы, принципы разграничения, нормы поведения и ритуалы — от особой речи до языка тела. Без представления о том, каким японцы видят общество вокруг себя и как они старательно встраиваются в него, описание их картины мира лишилось бы, пожалуй, ключевого своего элемента.
Для того чтобы максимально достоверно объяснить и описать этот мир, приходится пользоваться специально существующими для этого японскими терминами (русский язык тут зачастую оказывается бессилен). Два самых важных — это учи (内, «внутри») и сото (外, «снаружи»).
Учи — это тот узкий круг близких людей, в котором японцу хорошо, спокойно и уютно: его семья, близкие друзья — те, кого у нас принято называть устойчивым словосочетанием «родные и близкие». Сото — это окружающий мир, в который человек попадает, выходя из дома на работу или учебу: все те бесчисленные знакомые и коллеги, с которыми он общается, неукоснительно при этом соблюдая все правила приличия и социальные нормы — от надлежащего градуса поклона до вежливой речи.
Существуют иллюстрации, представляющие эту систему в виде лестницы, где человек, поднимаясь на ступеньку выше, попадает из мира внешнего в мир внутренний, от «чужих» — к «своим», из сото поднимается в учи. Это символично перекликается с тем, что в японских домах прихожая гэнкан, где принято разуваться и оставлять обувь, расположена на ступеньку ниже основного жилища; таким образом, входя в «свое» пространство, ты должен подняться на уровень выше.
***
«Внутренний» мир учи считается главным источником и основой уникального японского качества амаэ. Часто это сложное понятие, лежащее в основе отношений японца с окружающим миром, переводят как «зависимость от благожелательности других людей», хотя само слово лексически связано с прилагательным амаи
Существует версия, что это слово появилось от звукоподражания, которым японские младенцы обозначают, что проголодались: ума-ума.
(«сладкий») и с глаголом амаэру — «баловать». В общем, этимология на первый взгляд понятна: баловать — означает не отказывать в сладком. Однако в какой-то момент к этому простому детскому феномену прибавляется затейливое взрослое содержание.
Японский психолог Дои Такэо, посвятивший феномену амаэ книгу под названием «Анатомия зависимости» (1971), объясняет это следующим образом: та зависимость, которую испытывает ребенок от доброты матери, нуждаясь в ее заботе и благожелательности, проявляется впоследствии в отношениях между взрослыми людьми в японском обществе. Вырастая и попадая в строгую реальность, японец интуитивно тянется к тому теплу, которое получал в детстве. В этом объяснении, кажется, отчетливо звучит фрейдистская концепция, но Дои, будучи психоаналитиком, этого не скрывает и говорит, что на основе общения со многими пациентами пришел к выводу, что этот феномен — зависимость от хорошего отношения окружающих — проявляется в японцах очень сильно.
Человек в японском обществе рассчитывает на то, что к нему будут относиться с расположением, а к его недостаткам и просчетам — со снисхождением; эта потребность тут гораздо острее, чем в западном обществе. Иногда он даже может позволить вести себя немного по-детски, предполагая благосклонное отношение к нему окружающих, и сам он также готов изо всех сил проявлять благожелательность в ответ.
Неслучайно столь частое использование в повседневной речи слова ёросику (сложно перевести его одним словом, но сам корень ёроси означает «благость»): его произносят в разных выражениях, словно мантру, направленную на то, что все друг с другом будут вежливы и добры. Да и вообще, многие проявления японского характера и культуры — вежливость и учтивость, доброжелательные улыбки, почтительные поклоны и обмен подарками — становятся немного понятнее, если принимать во внимание, что там незримо присутствует идея амаэ — счастливого мира детства, в котором тебя понимают, ценят и любят. Так вот: когда человек находится внутри своего учи, он как бы оказывается «в домике», закрыт от всех внешних сложностей и правил, ведёт себя, как хочет, и любим таким, какой есть.
Однако, как только он попадает во «внешний» мир сото, все сразу становится по-другому: нужно держать в голове огромное количество различных нюансов и тщательно соблюдать бесконечные общественные предписания, кланяться, использовать в речи надлежащие грамматические конструкции — и все для того, чтобы получить благоприятное отношение со стороны окружающих, так необходимое японцу для комфортной жизни.
В этом внешнем мире появляются два качества, которых не знает прекрасный мир детства, — гири и энрё; и с ними японец идет по жизни, не забывая о них ни на секунду, пока находится в обществе. Эти слова в самых общих чертах можно перевести на русский язык как «чувство долга» и «стеснение», но не нужно поддаваться видимой легкости аналогии: японские понятия, стоящие за этими словами, гораздо более сложны, и именно на них в значительной степени строится общение человека с окружающим его социумом.
Гири — одна из основ японской социальной гармонии. Если пытаться объяснить это древнее понятие простыми словами, то в общих чертах это будет похоже на принцип «добро в ответ на добро». Предполагается, что проявленное по отношению к тебе добро делает тебя как бы должником: нужно непременно ответить на это добром в том же объеме, даже если тебе этого делать не хочется. Будучи скорее общественным ритуалом и моральной необходимостью, нежели проявлением доброты от чистого сердца, гири тем не менее является прекрасным способом установить хорошие отношения с человеком, поскольку даже простой подарок или угощение обязывают его проявить дружелюбие и сделать что-то хорошее в ответ.
Назвать подобное поведение уникальной чертой японского характера язык не поворачивается: в том или ином виде это понимание свойственно представителям и других народов. Важное отличие состоит в том, что японцы в значительной степени строят отношения на этом чувстве, превращая проявление доброты в инструмент для достижения своих собственных целей и интересов. Подарить подарок, угостить человека ужином — и у него сразу появляется то самое необходимое гири, которое можно потом использовать.
Во многом именно поэтому в Японии так развита культура подарков, которые дарят по разным поводам, включая смену времен года и знакомство с новыми соседями по дому. Существует даже такое понятие, как гири-чёко — «гири-шоколадка»: это шоколадки, которые девушки дарят юношам в День святого Валентина
Этот день в Японии — не в той же степени день влюблённых, как это принято на Западе. 14 февраля — день, когда девочки поздравляют мальчиков. Мальчики же дарят девочкам ответные подарки в «белый день» — 14 марта.
.
Еще одним любопытным проявлением гири является традиция отправлять по почте своим друзьям и коллегам новогодние открытки нэнгадзё. У них довольно незатейливое содержание, но оригинальность тут и не требуется: картинка с животным-символом наступающего года и два однотипных предложения — благодарность за совместную работу в уходящем году и надежда на сотрудничество в новом. Кому-то это могло бы показаться необязательным, но почта Японии ежегодно переправляет во все концы страны миллионы таких открыток. К этому ритуалу следует относиться со всей серьезностью: если ты получил открытку от человека, которому забыл её отправить, — это очевидное нарушение той хрупкой гармонии, которую так ценят японцы.
Но гири было бы неправильно сводить к шоколадкам и новогодним открыткам; этот принцип гораздо важнее и значительнее простого обмена подарками. В этом слове звучит моральный долг, необходимость платить за проявленное добро, даже если порой это требует гораздо более значимых поступков, чем купить шоколадку на праздник. В обществе, построенном на гири, появляется одно из тех качеств, без которых японцы не смогли бы стать такими, какими мы их сегодня знаем, — верность.
Верность была главным моральным благом в японской истории, наполненной войнами и предательствами, помогала выживать и дарила надежду. В ответ на покровительство, которое слуга получал от своего господина, он был готов отдать за него все, вплоть до собственной жизни. Этот долг, который он нес каждую секунду, не забывая о нем даже ночью, был «тяжелее горы» (как было написано в Императорском рескрипте солдатам в 1882 году), поэтому смерть зачастую оказывалась «легче пуха».
Верность привела к появлению среди самураев практики дзюнси, означавшей лишение себя жизни вслед за своим господином, за одну секунду решившись на сэппуку, и приобретшей в средневековой Японии поистине масштабный характер. Иногда одной жизнью не ограничивалось. История сохранила свидетельства того, как вместе с самураем совершали самоубийство его жена, дети, слуги: вся семья могла пасть жертвой этого экстремального проявления вассальной верности.
Верность во многом стала основой японского «экономического чуда»: работа всю жизнь во благо одной компании, пожизненный найм — все эти проявления японской корпоративной культуры того времени были бы без нее попросту невозможны.
Со временем средневековая жестокость ушла в прошлое, но основной принцип гири — помнить о своем долге и непременно возвращать его — не теряет своей актуальности с течением времени: сегодня он вовсю используется в бизнесе и рабочих взаимоотношениях между коллегами, хоть и сменил за прошедшие века самурайскую суровость на формальный обмен открытками и подарками.
Часто гири противопоставляют понятию ниндзё («чувства»). Если поведение в соответствии с гири — это исполнение долга, то ниндзё — это то, что делается от чистого сердца. Дихотомия гири-ниндзё известна не только как термин в японской психологии, но и стала основой большого числа дзидай-гэки или фильмов про якудза. Как поступить: как велит долг или как подсказывает сердце? Подобная дилемма знакома многим людям, даже далеким от мира японской организованной преступности.
Второе ключевое слово для полного социальных норм и ограничений «внешнего» мира сото — это понятие «энрё», которое можно перевести как «стеснение»; но оно все же отличается от стеснения в нашем понимании.
Как уже говорилось ранее, японцы очень сильно зависят от мнения окружающих, поэтому стесняются совершать поступки, которые могли бы привлечь внимание других людей. Энрё — это то самое нарушение установленных социальных норм, пусть даже они порой весьма условны. В качестве наглядного объяснения можно обратиться к словосочетанию энрё-но катамари, которое можно перевести примерно, как «сгусток (комок) стеснения». Приведенный ниже пример, вероятно, будет понятен в самых разных культурах. Представьте: на столе стоит тарелка с очень вкусными печеньями. Все берут их спокойно до тех пор, пока не останется одно — самое последнее: и вот для того, чтобы взять его, нужна некая смелость, поскольку на него претендуют несколько человек.
В японском языке для этого последнего печенья/куска на тарелке используется понятие «энрё-но катамари», и это может помочь примерно представить себе, что испытывает человек в случае энрё: вроде и не смертельно, но люди внимание обратят. Поэтому без крайней необходимости лучше не делать.
Когда человек находится в кругу родных и близких, внутри спокойного и безопасного учи, добро делается бескорыстно и без ненужного обременения чувством долга, а последнюю сладость можно брать, не опасаясь косых взглядов со стороны. Эта уютная возможность не думать о чувствах окружающих, а просто быть самим собой — приятная роскошь в мире, со всех сторон крепко стесненном общественным давлением. Но как только человек выходит на улицу и закрывает за собой дверь, попадая в сото, он сразу становится другим: вежливым, предупредительным, тщательно контролирующим каждое своё слово и взгляд.
Подробнее читайте:
Раевский, Александр Евгеньевич. Я понял Японию. От драконов до покемонов / Александр Раевский. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 368 с.